Блог им. Artyom_016
Стрижка купонов и биржевые бури: как жил фондовый рынок Российской империи
- 15 декабря 2025, 17:28
- |
Дневники банкиров, чиновников и композиторов — о панике, жадности и надежде на проценты.

В декабре 1889 года светская львица Александра Богданович сделала в своем дневнике лаконичную, но убийственную запись:
«Вчера умер Ляский (Международный банк). Акции банка сразу понизились до 35 руб. Что значит один человек!»
Одна смерть — и курс рухнул. Никаких плохих отчетов, просроченных кредитов или скандальных ревизий. Просто не стало директора. В этой фразе — вся суть фондового рынка Российской империи на его пике. Это был мир не абстрактных активов, а личных репутаций, плотных связей и нервных слухов. Котировки жили не только балансами компаний, но и здоровьем сановников, настроением в министерских кабинетах и разговорами за чаем в купеческих клубах.

Александра Богданович
Мы привыкли изучать ту эпоху по сухим сводкам биржевых бюллетеней и цирклярам Министерства финансов. Но настоящая, живая история рынка — с его адреналином, страхом и алчностью — записана между строк личных дневников, писем и мемуаров. В этих текстах фондовая биржа предстает не институтом, а нервной системой огромной страны, где паника могла начаться с одной телеграммы, а судьба миллионов рублей решалась на званом ужине.
Сегодня мы включим эту машину времени и услышим голоса главных действующих лиц: осторожного чиновника, решающего судьбу госзайма; авантюрного банкира, сколачивающего состояние на железных дорогах; испуганного интеллигента, наблюдающего, как его «надежные» облигации превращаются в бумагу для растопки; и даже юного гения-композитора, игравшего на бирже как на рулетке. Их истории — это и есть подлинная, неотредактированная история российского капитализма.
Государство vs Рантье: спор о доверии, который проиграли все
Если фондовый рынок — это здание, то его фундамент — доверие. В Российской империи этот фундамент трещал по швам с самого начала. Государство, выступая главным эмитентом и регулятором, вело сложную игру с собственными поддаными, пытаясь приручить их капиталы. А рядовой рантье, мечтавший о спокойной жизни «на проценты», с горечью обнаруживал, что самые надёжные бумаги могут в одночасье стать мусором.
Стратег в кабинете: когда 4% — священная цифра
В январе 1884 года сенатор и влиятельный промышленник Александр Половцов записал в дневник суть своего спора с министром финансов Николаем Бунге. Поводом стал, казалось бы, сугубо технический вопрос — выпуск новой государственной ценной бумаги.

«Вторник. Изучив записку Бунге о выпуске новой 5½% ренты, имеющей целью привлечь часть капиталов, ныне помещенных в сериях, отправляюсь к Бунге и высказываю ему опасения за неудачу нового типа бумаги, когда к прежним 4% народ привык и этим надо пользоваться» (Александр Половцов, 29 января 1884 года).
За этим стоит целая финансовая философия. «Сериями» называли краткосрочные казначейские обязательства — удобные, ликвидные, но опасные для казны: в кризис их массово предъявляли к выкупу. Бунге хотел заменить их долгосрочной 5.5% «рентой» (бессрочной облигацией). Его логика — финансовая стабильность. Логика Половцова — психология масс. 4% были не просто цифрой, а символом, маркером надёжности, к которому «привык народ». Повышение доходности до 5.5% могло быть воспринято не как щедрость, а как отчаянная попытка заманить деньги в рискованный актив. Государство в лице своих лучших умов ломало голову: как, не подрывая веру, перепрошить финансовые инстинкты миллионов?

Государственная 4% рента
Рантье в эмиграции: когда бумаги превращаются в труху
Прошло двадцать лет. Страну потрясают война и революция. Художник Александр Бенуа, находясь в Париже, с тревогой читает газеты и подводит печальные финансовые итоги. Его записи — это взгляд с другой стороны баррикады доверия, взгляд того самого «народа», о чьём привыкании так пеклись министры.
«У меня всего 8000 fr.— rentes françaises [французская рента] и 5000 руб.— одесских кредитных, которые, вероятно, превратились после всех погромов в подтирочные бумажки» (Александр Бенуа, 10 ноября 1905 года).
Его портфель — классика осторожного рантье: часть в надёжных иностранных активах («французская рента»), часть — в, казалось бы, солидных российских («одесские кредитные» облигации). Но политический кризис одним махом аннулировал все расчёты. Что стоит гарантия государства, если его власть не распространяется на мятежный город? Бумага, даже с гербовой печатью, мгновенно обесценивается. Год спустя Бенуа ставит жирный крест на философии инвестиций:
«Отныне всякий «капитал» буду держать в «чулке»» (Александр Бенуа, 10 июля 1906 года).
Это финальный аккорд. Крах не бумаг, а самой идеи. Если государство не может защитить ценность своего слова, выраженного в купоне, то вся финансовая система — бутафория. Доверие, которое Бунге и Половцов так бережно лелеяли, испарилось, сменившись первобытным инстинктом тезаврации — прятать наличные.
Пропасть между эмиссией и кошельком
История этого несостоявшегося диалога между властью и рантье — ключ к пониманию хрупкости имперского рынка.
· Доверие как валюта. Государственные бумаги (рента, облигации) были не столько инструментом финансирования, сколько квинтэссенцией общественного договора. Покупая их, гражданин давал государству деньги в долг в обмен на обещание стабильности и порядка. Высокая доходность (те самые 5.5%) здесь была не преимуществом, а сигналом риска.
· Политика — главный макрофактор. Для инвестора типа Бенуа не существовало отдельно «экономики» и отдельно «политики». Погром в Одессе или беспорядки в столице напрямую били по курсу его облигаций.Системный риск был запредельным и не диверсифицируемым.
· Крах парадигмы. Решение Бенуа спрятать деньги в «чулок» — это не анекдот, а приговор всей системе мобилизации капитала через доверительные бумаги. Когда государство-эмитент перестаёт быть высшей гарантией, рынок ценных бумаг как явление исчезает, уступая место бартеру, золоту и наличной купюре.
Именно в этой пропасти между благими намерениями в кабинетах и паникой в кошельках зрел главный кризис — кризис суверенного кредита. А пока чиновники спорили о процентах, на арену выходили другие герои — те, кто видел в рынке не способ сохранить, а молниеносно приумножить капитал.
Акулы капитализма и юные спекулянты: от строительства империи к биржевой рулетке
Пока одни мучительно теряли доверие к государственным бумагам, другие на этом рынке делали состояния. Но и их стратегии за полвека претерпели радикальную метаморфозу. Если в 1870-е главной игрой было создание активов с почти гарантированной прибылью, то к 1910-м на первый план вышла чистая спекуляция — игра на бумажных колебаниях, где реальный завод или дорога были лишь поводом для ставки.
«Золотой век» дельца: как строили дороги и делили миллионы
В феврале 1875 года банкир и концессионер Яков Поляков с лёгкостью записывает в мемуарах схему, которая сегодня вызвала бы многолетнее расследование регулятора. Речь идёт о «железнодорожной горячке» — главном инвестиционном тренде эпохи.

«Он выдумал открыть подписку на акции 4х дорог: Фастовской, Уральской, Оренбургской и Привислинской. В этом деле я и брат Лазарь приняли большое участие… Я подписал на 9 т.р. акций… Мы составили Компанию… взяли от брата Самуила всю постройку дороги на свой счет… и мы все заработали около 1 миллиона рублей» (Яков Поляков, февраль 1875 г.).
Перед нами — классическая схема первичного размещения (подписка) с последующей перепродажей актива (концессии). Поляковы не просто покупали бумаги на бирже — они влияли на сам процесс их возникновения, контролировали цепочку: лоббирование концессии в министерстве → организация подписки среди «своих» → создание строительной компании → получение подряда. Миллионная прибыль была наградой не за биржевую игру, а за организаторский талант, связи и доступ к инсайду. Это был капитализм созидательный, пусть и циничный: в конце цепочки всё же появлялась реальная железная дорога.

Уральская железная дорога
Игра на повышение: композитор, банкир и онкольный счёт
Перенесёмся на 38 лет вперёд. Январь 1913-го. 21-летний Сергей Прокофьев, будущий гений мировой музыки, а тогда — студент консерватории, озабочен не только контрапунктом, но и биржевыми сводками. Его дневник читается как руководство для начинающего трейдера.
«Я требую капитал, предлагаю труд, а выигрыш делю пополам… из-за смутной политической конъюнктуры бумаги стоят низко. Беда лишь, что не поймать момента, когда они поскачут вверх»(Сергей Прокофьев, 10 января 1913 г.).
Прокофьев не строит дороги. Он даже не особо разбирается в бизнесе компаний. Он видит «низкие бумаги» и хочет «поймать момент». Его инструмент — онкольный счёт (аналог маржинального кредита), который он открывает в Международном банке. Его актив — акции горнодобывающей компании.
«Слухи о мире на Балканах. Биржа скачет вверх. Утром пошёл в Международный Банк… на собранные мною четыре тысячи открыл онкольный счёт. Велел купить двадцать пять Никополь-Мариупольских» (Сергей Прокофьев, 23 января 1913 г.).

Никополь-Мариупольское горное и металлургическое общество, акция
Это чистая спекуляция на новостях. Слух о мире → оживление на рынке → покупка на заёмные деньги в расчёте на дальнейший рост. Между Прокофьевым и николаевскими заводами, акции которых он купил, нет никакой связи. Он покупает не долю в бизнесе, а абстрактный график, надеясь сыграть на его колебании.
Рынок взрослел, становясь всё более сложным и оторванным от реальных паровозов и домен. Но эта финансовая утончённость оказалась хрупкой. Когда грянул настоящий кризис, он показал, что за фасадом биржевых игр по-прежнему скрываются первобытные страх и борьба за наличность.
«Биржа ужасная»: анатомия паники — от кабинета банкира до обвала ренты
Инвестиции в рост — это искусство. Выживание в кризисе — ремесло, грязное и беспощадное. Дневники сохранили для нас кризисы двух масштабов: локальный финансовый шторм, где даже акулы капитализма выкручивались связями и бартером, и тотальный крах системы, где рушились уже не котировки, а сами основы доверия.
Микрокризис 1901 года: бартер, блат и исчезнувшая ликвидность (в записях ветерана)
Кто мог описать внутреннюю кухню кризиса лучше, чем Яков Поляков — тот самый «акула капитализма», что тридцать лет назад крутил миллионами на железнодорожных концессиях? К 1901 году его запись — это уже не план нападения, а инструкция по выживанию для попавшего в шторм тяжеловеса.
«Приехали в Петербург… Приняли от него облигации, разрешил кредит под акции Московского Ярославского Земельного банка. Я был у Мухина. Он согласился вместо 43 тысяч наличными взять 200 акций Санкт-Петербургского Азовского банка и соловексель на 40 тысяч рублей. У Малешевского. Он обещал похлопотать, чтобы купили в банке облигации Малакешские, Лифляндские. Биржа ужасная.» (Яков Поляков, 1901 г.).

Интересно наблюдать, как стратегия игрока меняется с возрастом рынка. Если в 1875-м Поляков создавал ликвидность (организуя подписку на новые акции), то в 1901-м он сражается с еёисчезновением. Его алгоритм выживания:
1. Взаимозачёт и бартер. Наличные — дефицит. Расчёт идёт активами: облигации в залог под кредит, пакет акций одного банка плюс вексель («соловексель») вместо денег.
2.Ключевая валюта — «похлопотать». Когда рыночные механизмы глохнут, в ход идёт последний аргумент — личная протекция. Устроить продажу бумаг «в банке» через знакомого (Малешевского) — значит обойти парализованную биржу.
3. Диагноз от профессионала. Фраза «Биржа ужасная» в устах Полякова звучит особенно весомо. Это не эмоция дилетанта, а вердикт ветерана: система расчетов дала сбой, доверие испарилось, рынок замер.
Макрокрах 1904-1905: когда падает не биржа, а государство
Если 1901 год был «техническим» кризисом ликвидности, то 1904-1905 стали годами краха системного. Русско-японская война и революция наложились на финансовую панику, превратив её в нечто иное. Писатель Сергей Минцлов, как хроникер, день за днём фиксирует этапы падения.
«На бирже паника: бумаги опять повалились» (8 февраля 1904 г.).
«Биржа угнетена страшно, и рента наша опустилась еще» (27 марта 1904 г.).
Но апогей наступает в декабре 1905-го, после Манифеста 17 октября, всеобщей забастовки и вооружённых восстаний:
«Рента сегодня — 78. Такого курса не бывало и после Цусимы! Дисконт поднят до 8 проц. Золотая валюта висит на волоске» (Сергей Минцлов, 2 декабря 1905 г.).
Цифра 78 — это приговор. Государственная 4% рента, эталон надёжности, символ доверия к империи, теряет почти четверть своей цены. Это сильнее, чем военное поражение при Цусиме. Одновременно Госбанк взвинчивает учётную ставку до 8% в отчаянной попытке остановить бегство капитала, которое Минцлов тут же фиксирует:
«Все, кто имеет малейшую возможность… уезжают за границу: за какой-нибудь только месяц переведены туда десятки миллионов (в том числе и великими князьями)».
От кризиса ликвидности к кризису солидарности
Сравнение этих двух кризисов, описанных полярными наблюдателями — циничным делецом и взволнованным интеллигентом, — показывает, как финансовая буря перерастает в политический ураган.
1. Кризис 1901 года — это «внутриигровое» событие. Ликвидность испаряется, но правила игры (ценность активов, роль банков, власть государства) ещё не оспариваются. Проблема решается внутри системы — связями, бартером, ожиданием помощи «сверху». Даже Поляков играет по этим правилам.
2. Кризис 1905 года — это крах самой системы. Падение ренты до 78 — это девальвация суверенного кредита. Инвесторы (включая великих князей) голосуют ногами и капиталами против будущего империи. Государство теряет монополию не только на насилие, но и на доверие как базовый актив.
3. Общий знаменатель — бегство в наличность. В 1901-м его имитировали бартером. В 1905-м оно стало массовым и паническим: золото, иностранная валюта, «чулок». Бумага, даже самая почтенная, в момент истины оказалась именно бумагой.
Эти дневники фиксируют момент, когда финансовая история становится частью истории политической. Биржевые котировки превращаются в точный датчик легитимности власти. И этот датчик в 1905 году зашкаливал.
Но система, хоть и треснувшая, ещё не рухнула. Она предпримет последнюю, парадоксальную попытку выжить, которая красноречивее любых отчётов покажет, во что на самом деле верили люди в канун 1917 года.
Последние аккорды: что купила Россия накануне конца
Осень 1917 года. Империи уже нет. Временное правительство доживает последние дни. Фондовый рынок, этот чувствительный нервный узел экономики, должен был бы быть мертв. Но нет — он подает странные, парадоксальные сигналы. В них, как в финансовой криптограмме, записан последний инстинкт общества, стоящего на краю пропасти.
«Заём Свободы» и «железные» облигации: парадокс октября 1917-го
31 октября 1917 года, за неделю до Октябрьского переворота, служащий Никита Окунев записывает в дневнике наблюдение, которое точнее любого манифеста описывает состояние умов.
«Заем Свободы разбирается очень туго. Но вот объявлено от Синдиката по реализации 4,5 % ж.д. облигаций выпуска 1917 года на 750 млн. р., что подписка на эти облигации превысила нарицательный капитал выпуска до такой степени, что подписавшиеся получат только 30 % подписанных ими сумм… Выходит, что под залог государственных имуществ не так охотно дают деньги, как под залог частных. Вот какое время настало!» (Никита Окунев, 31 октября 1917 г.).
Это финансовый снимок эпохи в двух кадрах:
1. Провал «Заёма Свободы». Власть, рожденная Февральской революцией, пытается финансировать себя, обратившись к патриотизму и идеалам. Народ отвечает молчаливым, но тотальным недоверием. «Свобода» как идея не имеет кредитного рейтинга.
2. Ажиотажный успех частных облигаций. Одновременно синдикат банков размещает облигации частных железных дорог (пусть и с государственной гарантией). Спрос зашкаливает: переподписка более чем в 30 раз. Люди готовы вложиться, но только во что-то осязаемое: в рельсы, вагоны, пути — в конкретный актив, который можно потрогать и который, как им кажется, переживет любую власть.
Что произошло? Рынок, агонизируя, вынес окончательный вердикт.
· Бегство от политики к собственности. «Заём Свободы» был политическим проектом. Железнодорожные облигации — частно-имущественным. Голосуя рублём, люди выбирали актив, а не лозунг. Они инстинктивно искали последнее пристанище для сбережений в материальном мире, в «железе», в надежде, что оно переживет бумажные революции.
· Крах государственного кредита как явления. Государство (в любом виде — имперское, временное) окончательно потеряло способность занимать под свое имя. Его бумаги больше никого не интересовали. Фундамент, который Бунге и Половцов пытались укрепить в 1884 году, был полностью размыт.
· Иллюзия частного залога. Ирония в том, что эта последняя надежда была призрачной. Через несколько недель декретами новой власти будут аннулированы все государственные займы, а частная собственность на средства производства — ликвидирована. Те самые «надёжные» железнодорожные активы будут национализированы. Но в октябре 1917-го этот рефлекс — доверие к частному залогу больше, чем к государственному слову — был последним всплеском логики старого финансового мира.
Заключение
История, рассказанная дневниками, — это история отношений между людьми и обещаниями, выраженными на бумаге.
Мы прошли путь от кабинетных споров о доверии (Половцов и Бунге) через золотой век созидательной аферы (Поляков) и лихорадку биржевой игры (Прокофьев) к хронике великой паники (Минцлов) и, наконец, к последнему парадоксальному выбору на развалинах системы (Окунев).
За всеми этими сюжетами стоит одно: рынок ценных бумаг — это не только экономика. Это психология, политика и культура. Это вера в то, что чужое обещание, подкрепленное гербовой печатью или репутацией банкира, стоит сегодняшних денег. Российский рынок имперской эпохи был ярким, азартным, сложным, но его ахиллесова пята оказалась слишком уязвима: он был встроен в государство, которое в кризис само стало главным источником риска.
Когда государство-эмитент и государство-гарант рухнули, рухнул и рынок. Остались лишь обрывки дневниковых записей, сканы никому не нужных акций и горький вывод Александра Бенуа, который оказался пророческим для всех: в момент истины бумага остается просто бумагой. А настоящая ценность — лишь в том, что можно удержать в руках или, в крайнем случае, спрятать в чулок.
Больше интересных статей, архивных документов и редких финансовых находок из прошлого можете найти на моём канале — https://t.me/HiveOfStocks.

теги блога ArtemS
- FIRE
- google alphabet
- акции
- баффет
- Бенджамин Грэм
- Билл Липшуц
- биография
- биржа
- Блэр Халл
- ваучеры
- Виктор Сперандео
- газеты
- Грэм
- далио
- деньги
- Джек Швагер
- Джефф Ясс
- Джо Ричи
- Династия
- долголетие
- ЖЖ
- зависимость
- ЗОЖ
- инвестиции
- Инсайд на бирже
- Исаак Ньютон
- Истории
- история
- кино
- книга
- Книги
- компания Южных морей
- культурный код
- Линда Брэдфорд Рашке
- лудомания
- Маг рынка
- маги рынка
- Марк Ричи
- Мартин Брейтуэйт
- миллионер
- Начало торгов
- Новости
- Ньютон
- обзор книг
- Облигации
- опцион
- офф топ
- Пенсия
- писатели
- подкасты
- Портфель инвестора
- преподаватели
- приватизация
- прошлое
- Разумный инвестор
- Ричард Дрихаус
- Российская империя
- Россия
- РТС
- Саймонс
- Сорос
- спорт
- спортсмены
- страны
- Стэнли Дракенмиллер
- Том Бассо
- трейдинг
- Уильям Экхардт
- фантастика
- философия
- фильмы про биржу и трейдинг
- Финансовая независимость
- фондовый рынок
- футбол
- царская Россия
- Швагер
- эксперты
- Эштон Кутчер





















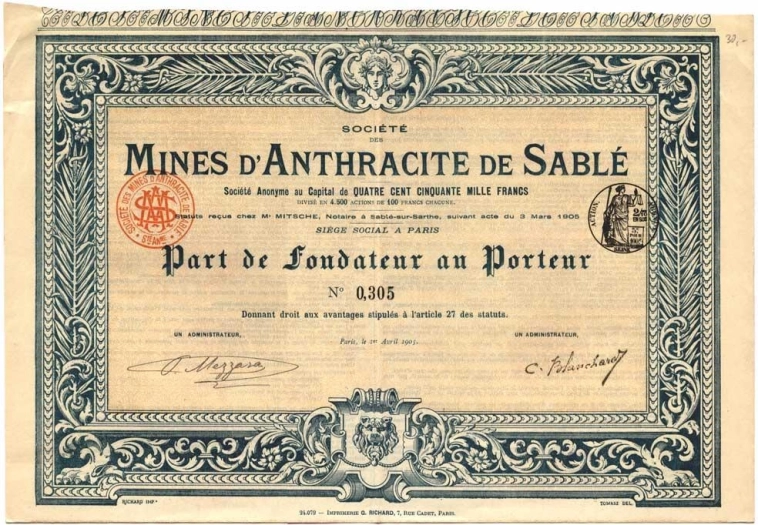







Что то изменилось?
Если считать редактирование текста с помощью нейронок «ИИ разбором», то наверно да
Не знаю, привыкаешь к работе с ИИ.
Раньше крах банка из-за смерти директора, сегодня — из-за одного твита харизматичного CEO
Раньше слухи о мире на Балканах, сегодня — ожидания от заседания ФРС
Фасады стали технологичнее, а под ними все та же человеческая жадность, паника и вера в то, что ну вот в этот то раз все будет по-другому
В йене и кое-где в евро — так и вообще были отрицательными.
В чём же тогда дело?