Слухи об участии русских и немцев в боях в Марокко.
Парижский корреспондент официозной «Prager Presse» утверждает, что повстанцами в Марокко командуют германские и русские офицеры, служившие ранее во французском иностранном легионе и перешедшие теперь к Абд-Эль-Криму. Рифские аэропланы управляются германскими и русскими пилотами. (Прага, 12 мая 1925)
комментарии crush на форуме
-


 Но коммунисты были неумолимы. Зюганов был категоричен: “Ельцин – это абсолютное зло!» Ему вторил депутат-режиссер Станислав Говорухин: «Неужели вы не слышите, как воет вся Россия, как вопиет и протягивает к нам руки: освободите нас от него, спасите наших детей!» Его документальный фильм «Час негодяев», о событиях октября 1993-го, накануне голосования по импичменту был показан по думскому телевидению.
Но коммунисты были неумолимы. Зюганов был категоричен: “Ельцин – это абсолютное зло!» Ему вторил депутат-режиссер Станислав Говорухин: «Неужели вы не слышите, как воет вся Россия, как вопиет и протягивает к нам руки: освободите нас от него, спасите наших детей!» Его документальный фильм «Час негодяев», о событиях октября 1993-го, накануне голосования по импичменту был показан по думскому телевидению.
Были, правда, и депутаты, которые хотели эту проблему “решить миром” и убедить Ельцина добровольно уйти в отставку. Так, например, депутат от группы “Российские регионы” Владимир Лысенко заявлял: «Страна не протянет еще целый год с такой слабеющей безавторитетной властью… Борис Николаевич, решайтесь, завтра может быть уже поздно!»
Само голосовали состоялось 15 мая в 15:00. Голосовали бумажными бюллетенями через урну. От использования привычной электронной системы голосования недоверчивые депутаты решили в этот раз отказаться. Каждый депутат получил по пять разноцветных бюллетеней (по числу пунктов обвинения).
Самым перспективным пунктом обвинения считался “чеченский”. За то, чтобы отрешить Ельцина от должности за развязывание войны в Чечне публично всегда высказывалось наибольшее количество депутатов. Еще накануне, вечером 14 мая, коммунисты были полны энтузиазма и верили, что уж по крайней мере по одному этому пункту обвинения они точно наберут необходимые ⅔ голосов.
Однако уже с утра стало понятно, что все не так очевидно. Председатель Счетной комиссии коммунист Игорь Братищев трагическим голосом сообщил о письмах Иосифа Кобзона, Руслана Аушева и некоторых других депутатов, которые предлагали считать их голосующими за импичмент, но при этом сообщали, что они очень сожалеют, но лично приехать в этот день в Думу не смогут.
После начала голосования думские журналисты отметили, что за бюллетенями пришло меньше народных избранников, чем ожидалось. Разумеется, что все последнее время Кремль не сидел сложа руки, а активно работал с колеблющимися одномандатниками. Особенно активен в этом был начальник отдела администрации президента по взаимодействию с парламентом Александр Косопкин.
Ходили слухи, что и представители некоторых “олигархов” провели определенную работу (прежде всего с депутатами от ЛДПР Жириновского), однако никаких доказательств этому никогда предъявлено не было. Разумеется, никто не просил депутатов голосовать против импичмента. Достаточно было просто не прийти в этот день на заседание Госдумы. Или “забыть” взять бюллетень. Или взять, но не использовать. Или “случайно” испортить и т.д.
Уже вечером, после голосования, депутаты собрались в зале, чтобы выслушать доклад Счетной комиссии о его результатах. Бюллетени взяли 348 депутатов – из 440 по списку. Значит 92 депутата просто отказались от участия в процедуре импичмента. В каждой из пяти урн было обнаружено от 330 до 333 бюллетеней. Следовательно, еще по 15–18 голосов народных избранников «потерялись»: разноцветные бумажки, судя по всему, кто-то просто унес домой – на память. 46 бюллетеней были признаны недействительными.
crush, российским властям нужна валюта, что бы заказывать беспилотники в северной Корее.
Петя Соколов. они же отказались от валюты, хотели газ и нефть за рубли толкать, или и тут обосрались?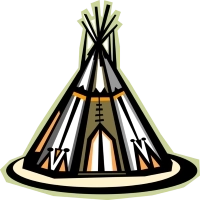
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в интервью РБК заявил, что рассчитывает на восстановление партнерских отношений с «Северста...
Бочаров Михаил, Сталин предлагает буржуазии помириться? Это какое-то ренегатство. За это в те времена расстреливали. Печально, что мы не сумели воспользоваться блестящей возможностью, предоставленной нам смертью коммунизма: мы не покончили со всеми коммунистами, не выставили напоказ все их преступления, не развенчали их «мечту», более того, не научились противостоять этой нынешней чуме. Оставаясь неисправимыми поклонниками политики умиротворения агрессора, мы коверкаем язык, калечим свою речь, пытаясь выговаривать, «он-она-оно», «Мссс, мссс» («Ms» — словечко, выдуманное, чтобы не называть женщину ни «мисс», ни «миссис»), «вертикальная угроза», «друзья озона». Но даже если мы все умудримся сделаться разом «зелеными», «голубыми» и дальтониками в отношении цвета кожи, мы этим все равно не купим мира и вечного счастья, потому что утопистов их «меньшинства» волнуют не более, чем коммунистов заботил пролетариат. Все это лишь средства достижения безграничной власти, чтобы диктовать свою волю, управлять нами, разрушать нашу индивидуальность, известную в неких древних забытых писаниях под именем человеческой души.
Печально, что мы не сумели воспользоваться блестящей возможностью, предоставленной нам смертью коммунизма: мы не покончили со всеми коммунистами, не выставили напоказ все их преступления, не развенчали их «мечту», более того, не научились противостоять этой нынешней чуме. Оставаясь неисправимыми поклонниками политики умиротворения агрессора, мы коверкаем язык, калечим свою речь, пытаясь выговаривать, «он-она-оно», «Мссс, мссс» («Ms» — словечко, выдуманное, чтобы не называть женщину ни «мисс», ни «миссис»), «вертикальная угроза», «друзья озона». Но даже если мы все умудримся сделаться разом «зелеными», «голубыми» и дальтониками в отношении цвета кожи, мы этим все равно не купим мира и вечного счастья, потому что утопистов их «меньшинства» волнуют не более, чем коммунистов заботил пролетариат. Все это лишь средства достижения безграничной власти, чтобы диктовать свою волю, управлять нами, разрушать нашу индивидуальность, известную в неких древних забытых писаниях под именем человеческой души.
И, как бы печально это ни было, приходится допустить, что все наши усилия, все наши жертвы остались бессмысленны. В конечном счете, человек оказался недостоин свободы, дарованной ему, и в решительный момент испытаний у него не обнаружилось ни смелости, ни чувства чести, чтобы возвыситься до этой задачи. В результате мы не сделались лучше, мудрей, чище, а само испытание явилось не более чем гигантским землетрясением, поглотившим согни миллионов.
Что ж, возможно, не стоит жаловаться, ведь и это тоже свойство человеческой натуры. Но через все невзгоды на своем жизненном пути я пронес веру в лучшее. И хоть вряд ли это лучшее увижу, все же я верю: явится однажды старый, мудрый Судия и скажет:
— И ничего нет на всем Божьем свете, что могло бы сделать такой ход событий правильным.
Единственное, что мне сейчас дано, — это хранить свои свидетельства до Судного Дня. Хотя цена, которую платит Россия, так неимоверно высока, крайне наивно было бы думать, что Западу как-то удается избежать при этом возмездия. Под этим я имею в виду не одни общеизвестные проблемы: неизбежное разрастание мафии и коррупции, экологические катастрофы масштаба Чернобыля или контрабандный вывоз ядерных технологий и ядерного сырья в страны Ближнего Востока (хотя все из перечисленных выше тревожных проблем вполне реально существуют, и Западу еще предстоит отыскать для каждой надлежащее решение). Не отношу я сюда и возможных последствий столкновений между различными частями России. Я говорю о куда более далеко идущих последствиях неспособности Запада одержать победу в «холодной войне» (или хотя бы определить ее идеологическую сущность). Всеобщий кризис двухсотлетней утопии неизбежно сказывается на политической, социальной и экономической жизни западного мира прямо пропорционально ее былому воздействию. От крушения мирового порядка до банкротства государства всеобщего благоденствия и от кризиса представительной демократии, поносимой и осаждаемой жаждущим власти «меньшинством», до вырождения нашей культурной жизни — все это прямые последствия мечты об эгалитарном коллективизме, безраздельно господствовавшей с эпохи французской революции. Однако, что весьма сходно с ситуацией на Востоке, здешняя «элита» еще даже не готова признать наличие кризиса, не говоря уже о том, чтобы с ним совладать. Не думая раскаиваться в своем прошлом соучастии в чудовищных преступлениях против человечества, «элита» упорно цепляется за потерпевшую крах утопию в отчаянной попытке удержать свое правящее положение.
Хотя цена, которую платит Россия, так неимоверно высока, крайне наивно было бы думать, что Западу как-то удается избежать при этом возмездия. Под этим я имею в виду не одни общеизвестные проблемы: неизбежное разрастание мафии и коррупции, экологические катастрофы масштаба Чернобыля или контрабандный вывоз ядерных технологий и ядерного сырья в страны Ближнего Востока (хотя все из перечисленных выше тревожных проблем вполне реально существуют, и Западу еще предстоит отыскать для каждой надлежащее решение). Не отношу я сюда и возможных последствий столкновений между различными частями России. Я говорю о куда более далеко идущих последствиях неспособности Запада одержать победу в «холодной войне» (или хотя бы определить ее идеологическую сущность). Всеобщий кризис двухсотлетней утопии неизбежно сказывается на политической, социальной и экономической жизни западного мира прямо пропорционально ее былому воздействию. От крушения мирового порядка до банкротства государства всеобщего благоденствия и от кризиса представительной демократии, поносимой и осаждаемой жаждущим власти «меньшинством», до вырождения нашей культурной жизни — все это прямые последствия мечты об эгалитарном коллективизме, безраздельно господствовавшей с эпохи французской революции. Однако, что весьма сходно с ситуацией на Востоке, здешняя «элита» еще даже не готова признать наличие кризиса, не говоря уже о том, чтобы с ним совладать. Не думая раскаиваться в своем прошлом соучастии в чудовищных преступлениях против человечества, «элита» упорно цепляется за потерпевшую крах утопию в отчаянной попытке удержать свое правящее положение.
Посмотрите на них: вечно готовые спекулировать на чувстве вины при виде бедности и нищеты какого-нибудь самого что ни на есть заброшенного племени или по поводу плачевного состояния какой-то редчайшей биологической разновидности, не имеющей к нам никакого отношения, они совершенно не чувствуют себя виновными в той колоссальной катастрофе, появлению которой способствовали. Напротив, левый истеблишмент Запада, словно в неустанно повторяемой лжи как раз и состоит его путь к истине, за последнее время сочинил буквально сонмы книг, в которых стремится доказать свою «несомненную правоту». Признания некоторых бывших советских политических деятелей о размахе сотрудничества Запада с советским режимом теперь воспринимаются с возмущением как «охота на ведьм». Или же в лучшем случае с невозмутимостью:
— Ну и что? Подумаешь!
Многие и по сей день выставляют свой былой идеологический альянс даже несколько ностальгически, если не с гордостью, как праведную борьбу за достойные цели (которые почему-то не оправдались). Словно речь идет не о политической системе, отправлявшей за один день на тот свет больше человеческих душ, чем святая инквизиция за три столетия своего существования (вспомним записку Сталина, в которой он одним росчерком пера приговорил к смерти 6600 человек; инквизиция погубила пять тысяч за триста лет).
— Что плохого в прекрасной мечте о всеобщем счастье, даже если окажется, что она неосуществима? — спрашивают эти люди с бездарно наигранной наивностью.
Как будто мы в конце XX века не научились понимать, что мечта одного человека может обернуться кошмаром для другого. Полагаю, мечта нацистов о чисто арийском счастье также была возвышенной; однако в Нюрнберге это обстоятельство не было принято во внимание.
Увы, мечтателям нынешней формации Нюрнберг не грозит. Не побежденные в годы первой «холодной войны», они продолжают вести вторую, навязывая свою программу доверчивому человечеству. Оглянемся вокруг: бывшая советская клиентура повсюду в мире тщательно сохраняется ее западными идеологическими союзниками (на Кубе, в Анголе, Мозамбике). Если мы готовы применить силу для того, чтобы освободить несчастных угнетенных от антидемокра-тического режима, то это произойдет на Гаити, а не на соседней Кубе: поставить президента-социалиста с помощью силы допустимо, сбросить же его с помощью силы — ни в коем случае.
К тому собственно и сводится так называемый «новый мировой порядок»: все та же старая, двухсотлетняя утопия, навязываемая нам всеми правдами и неправдами. Подобно Бурбонам в годы после Реставрации, наши утописты не вынесли для себя никакого урока из своего бедственного прошлого: сталкиваясь с пережитками коммунизма в Китае и Северной Корее или с рецидивами его в России, они по-прежнему произносят слова умиротворения, призывая к «невмешательству в чужие внутренние дела» и «влиянию через сближение». Как если бы последнее десятилетие не представило бесспорных доказательств того, что коммунистическую систему реформировать невозможно, нас по-прежнему побуждают «поддерживать реформы» в России посредством торговли и займов, дешевых кредитов и предоставления статуса наибольшего благоприятствования. И десять лет спустя, когда грянула сенсацией вполне реальная угроза, эти люди и сейчас отмахиваются о нее, изображая изумление.
Сама по себе идея мирового порядка, вводимого и поддерживаемого неким всемирным правительством, — по самой своей сути утопическая греза; однако, когда она проводится в жизнь прогнившей политической «элитой», которая заражена потерпевшей крах идеологией и преследует свои узкие интересы, такая идея немедленно превращается в несчастье для человечества. Не говоря уже о таких явных примерах, как Сомали и Югославия, даже на Ближнем Востоке «мирный процесс» обрел все черты нарастающей катастрофы: он уже обошелся Израилю в большее число человеческих жертв, чем потеряла страна за время Шестидневной войны. Чего иного можно ожидать от «мирного процесса», тайно состряпанного в Норвегии международной социалистической номенклатурой?
Однако основные последствия еще впереди, и их следует ожидать не только на Ближнем Востоке: попробуйте сегодня остановить террориста, когда каждому из них сияет яркий пример Ясира Арафата. Нравственный эталон «нового мирового порядка» может быть, следовательно, сформулирован так: если у тебя хватает выносливости долго истреблять невинных людей, то ты уже не террорист, а государственный деятель и лауреат Нобелевской премии мира. Можете быть спокойны, подобная точка зрения не прошла незамеченной ни для активистов движения «Хамас», ни для ИРА в Северной Ирландии, ни для различных группировок, сражающихся в Боснии, где чуть не каждая деревня провозглашает себя отдельным «государством» со своим собственным «правительством». При таком мощно притягательном возбудителе что толку держать в Боснии войска ООН или изображать международное посредничество! Очевидно, для того, чтобы страна могла выжить, необходимо, чтобы новые силы, новые люди — предпочтительно новое поколение — объявились на политической арене России. Пока этих новых сил нет, а нынешние недостаточно мощны, чтобы разрешить существующий кризис. Именно по этой причине ни один из обычно предполагаемых сценариев будущего России не представляется вероятным — ни вариант большевистского переворота 1917 года, ни вариант Веймарской республики с возникающим из хаоса новым Гитлером, ни вариант военного переворота по типу пиночетовского в Чили, ни вариант всеобщей гражданской войны, как в бывшей Югославии. Ведь если бы в России имелись силы, способные воплотить какой-либо из известных сценариев, эти силы уже давно победили бы или по крайней мере заявили бы о себе сколько-нибудь убедительно.
Очевидно, для того, чтобы страна могла выжить, необходимо, чтобы новые силы, новые люди — предпочтительно новое поколение — объявились на политической арене России. Пока этих новых сил нет, а нынешние недостаточно мощны, чтобы разрешить существующий кризис. Именно по этой причине ни один из обычно предполагаемых сценариев будущего России не представляется вероятным — ни вариант большевистского переворота 1917 года, ни вариант Веймарской республики с возникающим из хаоса новым Гитлером, ни вариант военного переворота по типу пиночетовского в Чили, ни вариант всеобщей гражданской войны, как в бывшей Югославии. Ведь если бы в России имелись силы, способные воплотить какой-либо из известных сценариев, эти силы уже давно победили бы или по крайней мере заявили бы о себе сколько-нибудь убедительно.
Возьмем, к примеру, нынешних «большевиков»: стремятся ли они принять на себя ответственность абсолютной власти? Что-то непохоже. Они предпочитают пока набивать себе карманы, но чтобы ответственность оставалась на Ельцине и его команде. Нынешние «большевики» — из разряда тех, кто, как остроумно заметил один российский журналист, нажил себе состояние на собственных похоронах. Таким образом, воскресение из мертвых вряд ли входит в их планы.
Или посмотрим на российских националистов, расписываемых на Западе так, будто они вот-вот предпримут штурм Кремля. Даже штурм телецентра у них не увенчался успехом. Где были их «черные сотни» в октябре 1993 года, когда Москва практически сдавалась им без боя? При стольких годах беспорядка, при всей их амуниции, вызывающей в памяти Веймарскую республику, националисты только и смогли, что получить 23 % голосов за «шестерку» — осведомителя КГБ Владимира Жириновского (большинство которых было подано явно из протеста против остальных претендентов).
По-настоящему численность российских националистов едва ли превышает численность «бритоголовых» в любом европейском государстве. Вот почему в России им приходится объединяться с коммунистами в коалицию, теперь известную как «союз красно-коричневых»: сошедшиеся в этот брак не по любви партнеры понимают, что каждый слишком слаб и в одиночку не выживет.
Военная диктатура — сценарий еще менее вероятный. Канули в прошлое те времена, когда армия представляла собой монолитную силу, спаянную железной дисциплиной в железный кулак партии. Нынешняя российская армия, судя по ее действиям в Чечне, раздираема внутренними проблемами и противоречиями. Новобранцы хотят домой, младший офицерский состав желает улучшения жилищных условий и повышения жалованья, даже между генералами нет сейчас полного согласия. Многие из командиров на местах предпочитают держать свои воинские части в казармах. Страшно даже вообразить, что может произойти, если в самом деле какой-нибудь безумный генерал предпримет военный переворот: никто не может сказать, в кого начнут стрелять эти солдаты, превратившиеся в банду мародеров.
Но кроме всего прочего — ни одна из вышеупомянутых сил не имеет ни малейшего представления, как решить проблемы страны. Если отставить в сторону их обычную демагогию, коммунисты понимают, что теперь нет возврата к пятилетним планам и кампаниям «социалистического соревнования». Самые крайние националисты понимают, что не может быть возврата в прежнюю империю иначе как через долгую кровопролитную войну, на которую у России уже нет сил. Да и демократы, запутавшиеся со своими реформами, также не имеют ясных ответов. Так частная инициатива обратилась в бессмысленную деятельность вместо того, чтобы впрячься в продуктивную рыночную экономику. Такой «бизнес» не способствовал наращиванию капитала, не вовлекался в конкуренцию, не создавал новых рабочих мест или новой продукции; он даже не вносил ощутимой доли в сбор налогов. Однако при этом он возбудил инфляцию, преступность и ненависть общества к «поганому капитализму».
Так частная инициатива обратилась в бессмысленную деятельность вместо того, чтобы впрячься в продуктивную рыночную экономику. Такой «бизнес» не способствовал наращиванию капитала, не вовлекался в конкуренцию, не создавал новых рабочих мест или новой продукции; он даже не вносил ощутимой доли в сбор налогов. Однако при этом он возбудил инфляцию, преступность и ненависть общества к «поганому капитализму».
Еще одно отличие от Польши состоит в том, что основная часть производившейся в России продукции не была ориентирована на потребителя, а представляла собой управляемую государством тяжелую индустрию, примерно 40–50 % которой приходились на долю военной промышленности. Всякая рыночная реформа непременно катастрофически повлияла бы на промышленность России, вызвав колоссальную волну безработицы. Поскольку в наши дни никакое правительство не сможет пережить такую громадную безработицу, не говоря уже о таком слабом, как правительство Ельцина, рыночные реформы в России следовало проводить одновременно с быстрым наращиванием частного сектора, способного создавать новые рабочие места. Но даже и этого было бы недостаточно, и потому следовало бы заготовить программу общественных работ, подобно той, которую осуществили при президенте Рузвельте в Соединенных Штатах.
Ничего из этого не было принято во внимание. И вот жесткий монетаризм Гайдара в сочетании с лихорадочной инфляцией и подпольной, оперирующей наличными средствами экономикой внезапно привел к кризису ликвидности. Говоря простым языком, российская экономика обанкротилась. Предприятия не могли платить за сырье, энергию, услуги, за продукцию, обеспечиваемую поставщиками; рабочим по несколько месяцев не выплачивалась зарплата. (Когда забастовал завод атомного оружия в Сибири, Ельцину пришлось лично на своем самолете отвозить рабочим задолженность.)
К лету 1992 года вместо обещанного конвертируемого рубля правительству пришлось печатать обыкновенный в астрономических количествах. Под давлением обстоятельств Гайдару с Ельциным пришлось вернуться к крупному субсидированию промышленности и периодической индексации заработной платы и пенсий — иными словами, к старой горбачевской экономической «политике» печатного станка и выпрашивания дополнительных кредитов у Запада.
И уж, конечно, по-прежнему велось множество всяких разговоров о реформах, а осенью, «как и планировалось», даже была предпринята нерешительная попытка «приватизации». Приватизационные ваучеры, номинальной стоимостью в 10 тыс. рублей каждый, были отпечатаны и вручены каждому гражданину России. Но население отнеслось к этому без особого энтузиазма: никто не представлял себе, какого рода собственность можно приобрести за эти ваучеры. Можно ли на них купить что-то полезное, скажем, землю или дома, или это означает приобретение крохотной доли какой-нибудь гигантской допотопной фабрики, которая никогда не принесет никакого дохода? Поскольку первое уже было «приватизировано» партией аппаратчиков и дельцами «черного рынка», народу оставалось второе.
Между тем, ваучеры, едва были запущены в обращение, просто добавили примерно триллион к уже вырвавшейся из-под контроля инфляции, став не более чем очередным средством платежа. К концу 1992 года рыночная цена ваучера упала до 2 000 рублей.
Так закончилась «рыночная реформа» Гайдара, сделав народ в двадцать раз беднее, лишив иллюзий, озлобив его. Подобная «реформа» как нельзя лучше сыграла на руку коммунистам: хотя в стране по-прежнему не было ни демократии, ни рыночной экономики, обе идеи были окончательно дискредитированы. Что касается Ельцина, то для него этот крах ознаменовал начало долгого отступления. Если весной 1992 года ему пришлось принести в жертву свои политические убеждения, к осени он принес в жертву и свою команду (в том числе и Гайдара), а весной 1993-го уже боролся за свое политическое выживание. Даже штурм Белого дома и насильственный разгон старого Верховного совета не укрепил его позиции: новый парламент (Дума) получился едва ли лучше прежнего, и с этого времени Ельцин фактически становится заложником «властных структур» (армии, министерства внутренних дел и нового КГБ — ФСК). Они оставались единственной силой в стране, поддерживавшей Ельцина, хотя, выражаясь словами Ленина, поддерживали его как веревка — висельника. Словно всех этих ошибок за каких-то два-три месяца было недостаточно для одного человека, Ельцин добавил к ним еще одну: не решив проблему политической власти в стране и не позаботившись о том, чтобы сразу ввести институт частной собственности, он привлек к внедрению рыночной экономики Егора Гайдара.
Словно всех этих ошибок за каких-то два-три месяца было недостаточно для одного человека, Ельцин добавил к ним еще одну: не решив проблему политической власти в стране и не позаботившись о том, чтобы сразу ввести институт частной собственности, он привлек к внедрению рыночной экономики Егора Гайдара.
По иронии судьбы, совершенно так же, как и Горбачев до того, эта новая русская звезда была на Западе моментально провозглашена молодым и энергичным борцом за рыночную экономику, хотя в действительности Егор Гайдар был отпрыском старого номенклатурного сухостоя. Дед его, известный советский детский писатель, создал себе имя прославлением большевистской революции; отец, советский адмирал, следуя семейной традиции, прославлял доблесть советских воинов в Афганистане. Ясно, что при такой завидной революционной родословной Гайдар-третий сделал блестящую профессиональную карьеру в различных мозговых центрах ЦК, таких, как его главный теоретический орган, журнал «Коммунист», а затем стал редактором отдела экономики газеты «Правда».
Немудрено, что при таких безупречных данных, характеризовавших его как знатока экономики Запада, невозможно было не выдвинуть его на пост премьер-министра неодемократической России.
Его команда состояла тоже из молодых, энергичных, либерально мыслящих детей номенклату-ры, годами просиживавших в престижных научно-исследовательских институтах. Разумеется, в брежневские времена их бы сочли чуть ли не бунтарями за попытку убедить старый догматический ЦК, что социализм можно усовершенствовать с помощью некоторых элементов рыночной экономики. Подозреваю, что в студенческие годы они тайно почитывали Милтона Фридмена и Фридриха фон Хайека. Вся беда, однако, состояла в том, что их познания в экономике были исключительно книжными, поскольку никогда они не жили, как живут обычные люди, — ни при социализме, ни при капитализме.
Именно эти «реформаторы-радикалы» убедили Ельцина принять польскую модель «шоковой терапии» и начать весь процесс с «либерализации цен». Они были твердо убеждены, что этот путь, вкупе с жесткой монетарной и финансовой политикой, приведет к тому, что рубль можно будет сделать к лету 1992 года конвертируемым, а к осени — начать приватизацию. Ведь, в конце концов, так было в Польше, не правда ли?
В результате произошла катастрофа. Реформы, которые на Западе были встречены как смелые, на самом деле оказались полностью несостоятельными, поскольку целиком игнорировали колоссальную разницу между российской и польской экономикой. Сельское хозяйство в Польше не пережило полной коллективизации и всегда основывалось на частном фермерстве; более того, как розничная, так и оптовая частная торговля уже существовала в Польше на протяжении многих лет. Потому-то шоковая терапия в этой стране стимулировала конкуренцию в частном секторе (занимавшем треть общей рабочей силы в стране), и после первоначального скачка на 60 % вверх цены за несколько месяцев стабилизировались.
В России же, совершенно наоборот, не было ни частного производства, ни частной торговли — частный сектор вообще отсутствовал, как отсутствовала и законная основа для частной собственности. В подобных условиях никакой конкуренции возбудить невозможно: производители-монополисты могли преспокойно сокращать производство и фиксировать цены на свою продукцию на любом уровне. Не удивительно, что производство, в том числе и сельскохозяйственное, упало повсюду на 20–30 %, в то время как цены подскочили в двадцать раз, после чего продолжали расти. В то же время жесткая монетарная и финансовая политика Гайдара — он кое-что почерпнул из книжек Фридмена — жесточайшим образом подавила всякую частную инициативу. При налогах, установленных по шведской шкале (федеральный и местный налог в сумме доходили до 90 %), и при отсутствии дешевых кредитов всякого инициативного предпринимателя тут же загоняли в подполье, где подозрительные сделки совершались исключительно за наличные (к вящей радости рэкетиров). Благодаря обретению новой финансовой основы и бездействию Ельцина, возродившаяся номенклатура смогла перегруппироваться и выработать новую тактику действий, на сей раз чисто «демократическую». Теперь уже не требовалось переворотов или заговоров. От былых коммунистов потребовалось всего-навсего выступить в качестве «демократической» оппозиции, защищающей интересы простых людей, попутно блокируя и саботируя продвижение дальнейших реформ. Поскольку теперь коммунисты преобладали и в исполнительных, и в законодательных ветвях власти, им неминуемо досталась победа в этой новой игре в «демократию».
Благодаря обретению новой финансовой основы и бездействию Ельцина, возродившаяся номенклатура смогла перегруппироваться и выработать новую тактику действий, на сей раз чисто «демократическую». Теперь уже не требовалось переворотов или заговоров. От былых коммунистов потребовалось всего-навсего выступить в качестве «демократической» оппозиции, защищающей интересы простых людей, попутно блокируя и саботируя продвижение дальнейших реформ. Поскольку теперь коммунисты преобладали и в исполнительных, и в законодательных ветвях власти, им неминуемо досталась победа в этой новой игре в «демократию».
Что же касается немногочисленных и разрозненных демократических сил, оказавшихся в проигрышной ситуации, то они лишь продолжали распри, усугубляя свой раскол. Они не могли открыто противостоять Ельцину из боязни стать картой в игре коммунистов, хотя и поддерживать Ельцина они не могли из опасения отвратить от себя главных своих приверженцев. В конце концов кое-кто из них вошел в правительство, другие вообще ушли из политики, а меньшинство слилось с рядами разуверившегося большинства, считавшего, что его предали и обокрали, лишив плодов произведенной им революции.
Да и как они могли думать иначе, видя, что те же самые партийные бюрократы сидят в тех же кабинетах, занимают те же посты и имеют те же привилегии, какие имели до августа? Какого же Ельцина им, обманутым, следовало поддерживать, того, который влезал на танк и объявлял войну номенклатуре, или того, который между своими объявлениями войны ратовал за компромисс с этой номенклатурой?
Таким образом, всего лишь через сто дней после победы правительство Ельцина — при своей неспособности решить основные проблемы, неумении поддержать политические структуры и все уменьшающейся популярности — все больше и больше начинало походить на временное правительство 1917 года. И еще: тогда же было крайне необходимо вытащить Россию из ее имперского прошлого, и в этом случае Ельцин также проявил нерешительность, если не повел себя двусмысленным образом. Притом, что в декабре 1991 года он все-таки нанес смертельный удар по Советскому Союзу, его представление о будущих взаимоотношениях России со вновь образовавшимися государствами было весьма и весьма расплывчатым, и это открывало дорогу возможным конфликтам.
И еще: тогда же было крайне необходимо вытащить Россию из ее имперского прошлого, и в этом случае Ельцин также проявил нерешительность, если не повел себя двусмысленным образом. Притом, что в декабре 1991 года он все-таки нанес смертельный удар по Советскому Союзу, его представление о будущих взаимоотношениях России со вновь образовавшимися государствами было весьма и весьма расплывчатым, и это открывало дорогу возможным конфликтам.
С одной стороны, республики провозглашались независимыми и таковыми признавались в Москве, но с другой — Россия претендовала на роль «правопреемницы» Советского Союза, принимая на себя ответственность поддержания мира на территории бывшей империи. И это была еще одна колоссальная ошибка В результате не только оказалось, что единственно на русском народе лежит ответственность за преступления коммунизма, жертвой которого он был в первую очередь и больше остальных народов; но кроме того оказалось невозможно провести сколько-нибудь значительную реформу громадных советских вооруженных сил, разбросанных теперь по просторам бывшего Союза и очень часто вовлекаемых в пресечение местных этнических конфликтов.
И, что еще хуже, противоборствующие стороны в многочисленных местных этнических конфликтах воспринимали российские войска, оказавшиеся в эпицентре конфликта, либо как источник поставок оружия, либо как потенциального союзника (если удавалось спровоцировать возмущение армии поведением противной стороны в конфликте). Участились случаи, когда местные жители из русских становились заложниками в этой жестокой игре. Это, в свою очередь, возбуждало проявления националистических чувств в самой России, а также усугубляло ее экономические трудности увеличением потока беженцев на историческую родину.
В конечном счете армейским командирам в условиях национальных конфликтов зачастую предоставлялось действовать, полагаясь на собственное политическое чутье, а это чутье далеко не всегда оказывалось ориентированным демократически. Случалось и такое, что в своих интересах военные старались как можно дольше затягивать конфликт, считая военные действия единственной гарантией против сокращения вооруженных сил и иных неблагоприятных воинских реформ. Единственным способом избежать этих потенциально взрывоопасных проблем было для Ельцина с самого начала отказаться от вовлечения в любые конфликты за пределами России, быстро вывести все войска с территорий, не принадлежащих России, а также серьезно реорганизовать вооруженные силы. Все это могло быть сделано, если бы Россия немедленно после августовского путча в одностороннем порядке вышла из Союза.
Разумеется, все сказанное не означает, что Ельцин сумел бы проделать все эти реформы за оставшиеся месяцы 1991 года. Однако он, несомненно, мог и должен был запустить их в те первые сто дней, наметив таким образом основные направления своей политики. Вместо этого он только и делал, что снимал и перетасовывал старую бюрократическую колоду. В результате бюрократия разрасталась, прибирая к рукам все правительственные сферы, делая правительство неподконтрольным и крайне коррумпированным. И вот отсутствие радикальной, осуществляемой при поддержке правительства программы приватизации дало возможность бюрократии «приватизировать» по собственному усмотрению. Бывшие партийные функционеры, которые, разумеется, теперь поголовно превратились в «демократов», быстренько сделались также и «бизнесменами», захватив в свои руки многое из вожделенной государственной собственности в процессе подобной фактической «приватизации». Остальное расхватали дельцы «черного рынка» и откровенные уголовники. Мало того, что это не вызвало публичного возмущения, — это опорочило самое идею рыночной экономии. Даже и в центре, где собственная власть Ельцина с самого начала была неоспорима, всего этого оказалось недостаточно, чтобы опечатать обкомы и райкомы партии и конфисковать ее имущество. Необходимо было как можно скорей обезвредить прочие составляющие тоталитарной системы, в том числе и КГБ со всей его запутанной агентурной сетью, чудовищно разросшуюся армию с ее мощнейшей индустриальной базой, министерства, по-прежнему контролировавшие до мелочей процесс производства и распределения. Но самое главное необходимо было раз и навсегда публично развенчать социалистический режим, основательно продемонстрировав его преступления, что лучше всего было сделать на открытом процессе или посредством общественного расследования так, чтобы при этом средствам массовой информации были предоставлены для публикации соответствующие документы из архива КПСС и КГБ.
Даже и в центре, где собственная власть Ельцина с самого начала была неоспорима, всего этого оказалось недостаточно, чтобы опечатать обкомы и райкомы партии и конфисковать ее имущество. Необходимо было как можно скорей обезвредить прочие составляющие тоталитарной системы, в том числе и КГБ со всей его запутанной агентурной сетью, чудовищно разросшуюся армию с ее мощнейшей индустриальной базой, министерства, по-прежнему контролировавшие до мелочей процесс производства и распределения. Но самое главное необходимо было раз и навсегда публично развенчать социалистический режим, основательно продемонстрировав его преступления, что лучше всего было сделать на открытом процессе или посредством общественного расследования так, чтобы при этом средствам массовой информации были предоставлены для публикации соответствующие документы из архива КПСС и КГБ.
Иными словами, надо было покончить со старыми структурами власти и создать новые. Это, несомненно, требовало от Ельцина разорвать союз с «либеральными» представителями номенклатуры, чего можно было достичь путем новых выборов в парламент. Все это и многое другое было довольно легко сделать в первые сто дней после августовского путча, когда напуганная номенклатура не могла оказать сопротивления, а Ельцин находился на вершине своей популярности. Скажем, прямо с самого начала можно и нужно было провести наиболее болезненные, однако необходимые реформы: прежде всего широкую приватизацию низовой государственной собственности — жилищ, учреждений, оптовой и розничной торговли. Один этот шаг уже расширил бы социальную основу власти Ельцина, постепенно вводя в жизнь основной принцип частной собственности, без которого никакие дальнейшие рыночные реформы невозможны. Кроме того, ввести этот принцип означало бы заменить нормальным рыночным распределением рушащуюся систему централизованного государственного распределения, являвшуюся основной причиной дефицита и постоянным источником коррупции. И, наконец, все это прямо вызвало бы у значительной части населения чувство удовлетворения при виде ощутимых последствий революции.
Эти меры, проводимые одновременно с чисткой номенклатуры, а также с введением в жизнь нового российского законодательного органа, привели бы к власти новых людей в результате устранения главного препятствия реформам старого законодательного органа, изобретенного Горбачевым специально, чтобы замедлить ход перемен. Вместо того, чтобы убеждать своих врагов голосовать за смертный приговор самим себе в виде новой конституции и закона о земле (что Ельцин впоследствии и сделал), или вместо того, чтобы штурмом брать Белый дом и с помощью силы свергать прежний Верховный совет (что ему и пришлось сделать впоследствии), Ельцин мог бы создать себе новое орудие реформ. А это уж во всяком случае, сделало бы послеавгустовские перемены необратимыми, а также могло значительно укрепить его собственную позицию. Тем не менее, как бы в подтверждение старой истины о том, что жизнь гениальный создатель самых невероятных сценариев, судьба предоставила Ельцину и его соратникам последний шанс: разразился так называемый августовский путч, подспудно оказавшийся неожиданным подарком, поскольку ускорил крах коммунистической системы. Можно только гадать, сколь долго, если бы не путч, тянулась бы предшествовавшая всему этому деморализующая неопределенность, когда интеллектуалы беспрестанно мололи языками насчет мудрости решения «сесть за круглый стол переговоров» и кошмаров возможной конфронтации, а Запад отчаянно пытался спасти своего любимого Горби. И как бы ради посрамления их всех «империя зла» решила нанести ответный удар, после чего развалилась на глазах, показав, до какой степени прогнила насквозь.
Тем не менее, как бы в подтверждение старой истины о том, что жизнь гениальный создатель самых невероятных сценариев, судьба предоставила Ельцину и его соратникам последний шанс: разразился так называемый августовский путч, подспудно оказавшийся неожиданным подарком, поскольку ускорил крах коммунистической системы. Можно только гадать, сколь долго, если бы не путч, тянулась бы предшествовавшая всему этому деморализующая неопределенность, когда интеллектуалы беспрестанно мололи языками насчет мудрости решения «сесть за круглый стол переговоров» и кошмаров возможной конфронтации, а Запад отчаянно пытался спасти своего любимого Горби. И как бы ради посрамления их всех «империя зла» решила нанести ответный удар, после чего развалилась на глазах, показав, до какой степени прогнила насквозь.
Таким образом внезапно возникла возможность компенсировать затянувшуюся нерешитель-ность. Но для того, чтобы воспользоваться такой возможностью, необходимы были очень быстрые и радикальные действия, пока номенклатура еще не пришла в себя от полученного шока, а общественное воодушевление пребывало в апогее. И, надо сказать, команда Ельцина действительно великолепно проявила себя во время путча, а также в течение нескольких дней после него. Вне сомнения, то, что Ельцин взобрался на танк перед Белым домом и обратился оттуда с речью к согражданам, было его звездным часом, а тот момент, когда через пару дней он подписывал указ о запрещении коммунистической партии Советского Союза, — самым знаменательным событием всей его жизни.
Но на этом все и кончилось. В следующие сто дней, как бы оцепенев от неожиданного триумфа, Ельцин не совершил ровным счетом ничего значительного. Как и в 1917 году, августовская «революция» одержала победу в центре страны, в основном в нескольких крупнейших городах, тогда как провинцию она не затронула. Путч провалился настолько молниеносно, что продемократические силы не успели объединиться, чтобы избавиться от местных боссов. Теоретически «демократы» были партией власти, однако в действительности они не обладали никакой властью на местах — и Ельцин не сделал ничего, чтобы это положение изменить. Тем более не могло справиться с такой колоссальной задачей правительство, состоящее из людей случайных, на которых буквально свалилась власть, и у которых не было никакой структурной опоры, способной стабилизировать положение в переходный период. Новые, демократические учреждения находились в зачаточном состоянии, существуя скорее символически, чем реально; во всяком случае, они были не чета вездесущим и хорошо отлаженным структурам, оставшимся от старого режима и спаянным общими интересами (и совместными прошлыми преступлениями) в фактическую мафию. Даже заменить старый управленческий аппарат было некем, отчего старая номенклатура с ее награбленным богатством, международными связями и опытом продолжала контролировать как исполнительную, так и законодательную власть в якобы демократическом уже государстве.
Тем более не могло справиться с такой колоссальной задачей правительство, состоящее из людей случайных, на которых буквально свалилась власть, и у которых не было никакой структурной опоры, способной стабилизировать положение в переходный период. Новые, демократические учреждения находились в зачаточном состоянии, существуя скорее символически, чем реально; во всяком случае, они были не чета вездесущим и хорошо отлаженным структурам, оставшимся от старого режима и спаянным общими интересами (и совместными прошлыми преступлениями) в фактическую мафию. Даже заменить старый управленческий аппарат было некем, отчего старая номенклатура с ее награбленным богатством, международными связями и опытом продолжала контролировать как исполнительную, так и законодательную власть в якобы демократическом уже государстве.
Не забудем и менее чем дружественное отношение Запада к нарождающейся в бывшем СССР демократии: в то время как те, кто пытался спасти прогнившую систему, — Горбачев и K° — до последнего момента пользовались безоговорочной поддержкой Запада, их более демократические оппоненты (включая Ельцина), объявлялись «ненадежными» и даже «опасными». Все это лишь продлевало агонию режима, тормозило возникновение подлинной демократической оппозиции и делало проблему выздоровления страны еще более трудной.
Наконец, прибавьте сюда для полноты картины бесконечные этнические конфликты, стремительный рост преступности, фантастическую коррупцию и полную апатию деморализованного населения, и станет ясно, что шансы успешного выздоровления были весьма невелики. Единственным выходом из положения могло бы стать только вовлечение максимально широких слоев населения в политический прогресс. А для этого нужна была драма всенародной борьбы со старым режимом, нужен был катарсис победы общества над системой, а точнее сказать — над самим собой. Но, как мы видели, на это не решилась «элита», для которой номенклатура была роднее народа. Напротив, эти провинциальные секретари обкомов и бывшие комсомольские вожаки, волею случая оказавшиеся у власти, меньше всего хотели что-либо менять и уж тем более делиться властью. Да и не только они.
«Ах, народ не готов…» — толковала интеллигенция, привыкшая всегда оправдывать свое слабодушие ссылками на «народ». Напротив, как мы видели выше, народ-то был готов бороться за демократию, однако элита удобное сожительство с коммунистами предпочла власти народа, проводимой народом в интересах народа. Тем более не удивительно их торжество в России. Теперь, после кровавого месива в Чечне, вдруг заговорили враз — и на Востоке, и на Западе — о «конце российской демократии», об изолированной и никому не подотчетной правящей клике в Кремле, о контроле над прессой и народном безразличии. Чеченская авантюра объявлена чуть ли не «водоразделом» всего российского политического развития. Да полноте, господа, разве все это только что возникло? Разве не те же самые бравые генералы, что руководят штурмом Грозного, «помогали» Афганистану? Разве не те же самые партаппаратчики руководят «национальной политикой», что и при Брежневе-Андропове? Не те ли это «профессионалы», за коих так ратовало общественное мнение в 91-м? Да и «общество» — не то ли же самое, что так и не нашло в себе мужества освободиться от тоталитарного гнета? Не надо теперь лукавить, господа хорошие: все это вы выбрали сами, соблазнившись перестройкой да убоявшись конфронтации.
Тем более не удивительно их торжество в России. Теперь, после кровавого месива в Чечне, вдруг заговорили враз — и на Востоке, и на Западе — о «конце российской демократии», об изолированной и никому не подотчетной правящей клике в Кремле, о контроле над прессой и народном безразличии. Чеченская авантюра объявлена чуть ли не «водоразделом» всего российского политического развития. Да полноте, господа, разве все это только что возникло? Разве не те же самые бравые генералы, что руководят штурмом Грозного, «помогали» Афганистану? Разве не те же самые партаппаратчики руководят «национальной политикой», что и при Брежневе-Андропове? Не те ли это «профессионалы», за коих так ратовало общественное мнение в 91-м? Да и «общество» — не то ли же самое, что так и не нашло в себе мужества освободиться от тоталитарного гнета? Не надо теперь лукавить, господа хорошие: все это вы выбрали сами, соблазнившись перестройкой да убоявшись конфронтации.
Ах, будут танки под окном, будет кровь.
Что ж, вот они и танки, вот и кровь.
Так уж устроен наш мир, что нам приходится платить за любую свою ошибку, любой свой выбор. Но если за ошибку в личных делах обычно сам же и платишь, то за политические ошибки расплачивается вся страна, а то и весь мир. Одно цепляется за другое, делая невозможным третье и оставляя все более уменьшающийся набор возможных решений идущим следом поколениям. И, глядишь, вполне разрешимая вначале проблема вырастает в кризис, а кризис — в катастрофу, от которой пострадают совсем непричастные к изначальной проблеме люди. Будь они хоть семи пядей во лбу, им только и останется, что выбирать между плохим и худшим.
Не так ли и нам пришлось платить за увлечение наших дедушек и бабушек красивой идеей социализма в начале века? А еще более — за их безразличие, за их конформизм, когда на их глазах красивая мечта стала превращаться в душегубку. Ведь если что и поражает в российской истории, так именно это безразличие, знаменитый русский «авось»: фанатиков-большевиков и было-то не более сорока тысяч в 17-м году, но и противостояла им всего лишь горстка офицеров. Даже в разгар гражданской войны — всего несколько сот тысяч с обеих сторон, из коих значительную часть составляли люди совершенно случайные: поляки, пленные чехи, латышские стрелки. В лучшем случае казаки. Так где же была вся страна, уже тогда имевшая население в 150 миллионов? Что они-то делали? Сидели по домам и ждали: «Авось, пронесет…»
Хотя исторические параллели редко бывают оправданы, от них трудно удержаться: глядя на нынешнее равнодушное разложение огромной страны — как не вспомнить апатию 75-летней давности? Конечно, переход от десятилетий тоталитарной неволи к демократии и от «зрелого социализма» к рыночной экономике никак не мог быть легким. Достаточно вспомнить коллективизированное сельское хозяйство, жестко монополистическую промышленность, почти 50 % которой работало на военные нужды, отсутствие инвестиционного капитала, истощенные ресурсы и массы людей, никогда в жизни не работавших продуктивно, чтобы понять масштабы проблемы. Любая, сколь угодно постепенная реформа такой экономики неизбежно должна была вызвать массовую безработицу, падение жизненного уровня и социальную напряженность, размаха которых не выдержало бы никакое демократически избранное правительство (как ни одно избранное правительство не могло бы и создать такую систему). (Эпилог)
(Эпилог)
1. На Востоке
«Ах, какая разница? — говорили мне с досадой и на Востоке, и на Западе. — Главное, что коммунизм развалился, притом бескровно».
И опять, как всегда, получалось, что я какой-то вечно недовольный злопыхатель или даже опасный «экстремист». Никак мне не угодишь: вот уж и советского режима нет больше, и КПСС запрещена, и СССР распался — чего же еще надо? Скорее бы только забыть кошмар прошлого, стряхнуть его точно пыль и — вперед, к победе капитализма!
Не знаю, почему-то эта вот чисто фрейдистская потеря памяти (а с нею и совести) тревожит меня гораздо больше сугубо материальных последствий нынешнего кризиса. Жизнь начинается у них как бы с нуля, без сожаления, раскаяния или просто попытки переосмыслить пережитое. Все мы, независимо от наших прошлых дел, теперь одинаковы, все — пострадавшие, все — демократы. Порою доходит до курьезов: какой-то совершенно незнакомый человек, остановив меня на улице, радостно, без тени иронии, сообщал:
— Я сам двадцать лет работал в органах. А мой приятель был одним из тех, кто вывозил вас в Швейцарию. Он этим всю жизнь очень гордится.
И что мне было сказать, глядя в его радостное лицо, кроме как передать привет его приятелю?
В основном же это совсем не забавно, это пугает. И дело тут отнюдь не в нас, тех немногих, кто отказался быть соучастником зла, — мы-то вполне готовы простить виновных, но не должны прощать себя они сами. Это должно быть нужно им, а не нам, и коли такой потребности у них нет, то дело безнадежно. Как хотите, но не могу я поверить в способность человека заново родиться без боли и мучительной переоценки своих былых ценностей, тем более в такую возможность для целой страны, десятилетиями жившей в чудовищной лжи. Единственный известный нам пример такого возрождения — послевоенная Германия — вряд ли был бы успешным без осознания немцами своей национальной вины, а это осознание — без осуждения их преступлений всем человечеством. Да и во всей континентальной Европе, пережившей нацистскую оккупацию (а стало быть, и коллаборантство ее элиты), вряд ли восторжествовала бы демократия. Глядишь, через год-другой после освобождения и там к власти пришли бы именно бывшие коллаборанты (разумеется, под личиной «демократов» и путем совершенно демократических выборов), как теперь это происходит и в Польше, и в Венгрии, и в Болгарии, и даже в Литве.

 «Конфронтации не избежать, — говорил я сразу по приезде на пресс-конференции. — Единственное, о чем следует думать: как избежать крови. Поэтому я тысячу раз готов повторить: нужна всеобщая забастовка. Это единственный шанс избежать крови и голода. (…) Вы что, не понимаете: к зиме у вас будет голод. Горбачев добровольно не уйдет. КГБ добровольно не уйдет. Значит, они будут стрелять.
«Конфронтации не избежать, — говорил я сразу по приезде на пресс-конференции. — Единственное, о чем следует думать: как избежать крови. Поэтому я тысячу раз готов повторить: нужна всеобщая забастовка. Это единственный шанс избежать крови и голода. (…) Вы что, не понимаете: к зиме у вас будет голод. Горбачев добровольно не уйдет. КГБ добровольно не уйдет. Значит, они будут стрелять.
Я считаю, что сегодня нельзя быть пассивным. Ведь если наша страна не встанет, как один человек и не скажет коммунистическому режиму — уйди, альтернативой этому будет голод в эфиопских пропорциях и гражданская война ливанского типа».
«Мне непонятно, как можно морально поддерживать бастующих шахтеров и продолжать ходить на работу, — давил я на чувства в последовавших интервью. — Как же так: бастуют шахтеры, не за себя — за общее дело, а вы ходите на работу… Я лагерный человек. Если голодает один зэк, голодает весь лагерь. Должна забастовать страна. (…) Вот если останется эта власть, ваши дети будут воевать где-нибудь в Польше или Молдавии. Будут подавлять мятеж азербайджанцев. Вам это надо?»
«Нужно срочно организовывать демократические структуры. Ваши депутаты сидят в своем российском парламенте и теряют время. Неужели не понимают, что за ними ничего нет, никакой власти? Отними у них завтра микрофон, и их нету! Надо объединяться. Назовите это хоть форумом, хоть партией… Понимаете, страна рухнет, и никого нет».
В сущности, в этом и была вся проблема: страна была готова сбросить режим, но не готова оказалась новая «элита», новые, выросшие в перестройку «демократы». Люди, в общем-то, случайные, выдвинувшиеся на псевдовыборах, когда любое новое лицо казалось лучше старых, они были гораздо ближе к режиму, чем к народу. Им вовсе не хотелось радикальных перемен, которые вполне могли отодвинуть в сторону и их самих, лишив их случайно обретенного положения «лидеров». Придя на заседание Верховного совета РСФСР, я поразился их неадекватности: полдня у них ушло на бесплодные препирательства о том, по каким микрофонам каким группам депутатов выступать. Под конец бурных дебатов на эту столь важную им тему они даже проголосовали и, восхищенные собственным демократизмом, объявили перерыв. А в это же время страна уже настолько жаждала смены режима, настолько была раскалена, что через несколько дней даже коммунистические профсоюзы были вынуждены, как я уже упоминал, провести однодневную забастовку, чтобы как-то сохранить свое влияние. Более 50 миллионов человек прекратило работу, притом вопреки официальному запрету.
Воспользовавшись перерывом, я вылез на трибуну и попытался вернуть их к реальности. Куда там! Как и прочие российские «лидеры», они мечтали о «гражданском мире», о «переговорах за круглым столом» с коммунистическим режимом. И, сколько я ни объяснял, что даже в Польше (где за плечами лидеров «Солидарности» по крайней мере стояли миллионы членов их организации, пережившей к тому же военное положение) «круглый стол», тем не менее, был ошибкой: он лишь затормозил движение польского общества к демократии, российские «демократы» не пожелали понять, что в их условиях такой «круглый стол» и подавно не будет круглым. В конфликте между народом и режимом они инстинктивно выбирали сторону режима, их породившего. Ельцин, в тот момент бесспорный их лидер, даже предал бастовавших шахтеров, бросив их на произвол судьбы, только чтобы договориться с Горбачевым о временном перемирии. Более того, из всех тогда существовавших политических групп он выбрал себе в союзники «либеральных коммунистов» — своих будущих смертельных врагов: Александра Руцкого сделал своим вице-президентом, Руслана Хазбулатова председателем Верховного совета России. Пройдет всего четыре месяца, и этот «выбор» окажется роковым для всего последующего развития событий, для всей страны, сделав демонтаж старой системы невозможным. Запутавшись в заговорах, потонув в путчах, режим упадет, как переспевший плод. Но все структуры новой власти окажутся заблокированы старой номенклатурой, парализованы эгоизмом «новой элиты» из числа «либеральных коммунистов», столь любезных сердцу Бориса Ельцина. Не создав себе никаких массовых структур для опоры, новая демократия повиснет в воздухе, а власть достанется бюрократии, жадной и бездушной…
Впрочем, что ж винить его одного, вечно пьяного бывшего партаппаратчика? От него и ждать было трудно другого выбора. Но ведь и весь «цвет нации», вся интеллектуальная элита оказалась не лучше, в критический момент испугавшись своего народа больше чекистской расправы. Заныли, заскулили:
«Ах, не приведи Господи русский бунт… Ах, будут, танки под окном…» В самом деле, что могла бы в тот момент ответить Москва на ультимативное требование соблюдать свои обязательства по Хельсинским соглашениям? Ничего, кроме демагогии. Зато денонсация их Западом открывала последнему великолепную игру: предложить созыв международной конференции для заключения послевоенного мирного договора, где неизбежно всплыли бы вопросы самоопределения стран Европы, оккупированных СССР по договору с Гитлером. Кто мог быть против мирного договора в тот напряженный момент? Даже откровенно просоветские силы оказались бы в затруднении, а уж непредвзятое общественное мнение точно оказалось бы на нашей стороне. Говорю это не предположительно: в 1984 году, как раз тогда, когда антиядерная истерика достигла своего апогея в США, мы поставили убедительный эксперимент в двух самых либеральных штатах США — Калифорнии и Массачусетсе. Избирателям в Лос-Анджелесе был предложен на референдуме вопрос:
В самом деле, что могла бы в тот момент ответить Москва на ультимативное требование соблюдать свои обязательства по Хельсинским соглашениям? Ничего, кроме демагогии. Зато денонсация их Западом открывала последнему великолепную игру: предложить созыв международной конференции для заключения послевоенного мирного договора, где неизбежно всплыли бы вопросы самоопределения стран Европы, оккупированных СССР по договору с Гитлером. Кто мог быть против мирного договора в тот напряженный момент? Даже откровенно просоветские силы оказались бы в затруднении, а уж непредвзятое общественное мнение точно оказалось бы на нашей стороне. Говорю это не предположительно: в 1984 году, как раз тогда, когда антиядерная истерика достигла своего апогея в США, мы поставили убедительный эксперимент в двух самых либеральных штатах США — Калифорнии и Массачусетсе. Избирателям в Лос-Анджелесе был предложен на референдуме вопрос:
«Должен ли совет графства Лос-Анджелес направить руководству Соединенных Штатов и Советского Союза послание с утверждением, что риск ядерной войны между Соединенными Штатами и Советским Союзом может быть сведен до минимума, если у всех народов будет возможность свободно и без опасений высказывать свое мнение по международным проблемам, в том числе по национальной политике вооружения, — чтобы тем самым население графства Лос-Анджелес призвало все народы, подписавшие Хельсинские соглашения по правам человека, соблюдать условия этих соглашений по вопросам свободы слова, религиозных убеждений, печати, собраний и эмиграции для всех граждан?»
И, несмотря на отчаянное сопротивление профессиональных миротворцев, предложение было принято большинством в две трети голосов! Аналогичная резолюция прошла в Массачусетсе в октябре:
«…побуждая Советский Союз следовать Всеобщей Декларации прав человека ООН и Хельсинским соглашениям, тем самым уменьшая угрозу ядерного столкновения».
Не возникает сомнения, что правительство США легко могло распространить этот эксперимент на всю страну, совершенно обезвредив движение промосковских миротворцев. Но, несмотря на такую яркую поддержку населения, администрация Рейгана так и не решилась на это. Тем более не попытались они сделать ее своею международной позицией, а уж о денонсации соглашений и об идее «мирной конференции» в Европе и говорить не хотели.
Увы, консерваторы оказались абсолютно неспособны усвоить принципы «идеологической войны». Даже помощь антикоммунистическим движениям, так называемая «доктрина Рейгана», ограничивалась чисто материальным аспектом, чаще всего финансовой или военной помощью. Но вся огромная пропагандистская работа по обеспечению общественного сочувствия была за пределами их понимания. Этим, как и многим другим, пришлось заниматься нам, не имея на то ни средств, ни политических возможностей. А много ли можно было сделать чисто общественным группам, на средства, собранные у общественных и частных фондов? Созданный нами в 1983 году «Интернационал Сопротивления» разрывался на части, пытаясь противодействовать тому, чем в СССР занимались огромные, хорошо финансируемые и могущественные структуры. Наши западные друзья часто даже не понимали, что мы пытаемся сделать. Работу с прессой, конференции да пресс-конференции они еще понимали, но что-либо более сложное наталкивалось не непреодолимые препятствия бюрократического непонимания.
Наиболее яркий тому пример — наше предложение вызвать массовое дезертирство в советских частях, расположенных в Афганистане. Казалось бы, ясно, что, сколько ни снабжай афганских моджахедов оружием, чисто военной победы они добиться не смогут. Стало быть, надо искать других решений, которые бы сделали советскую оккупацию слишком «дорогостоящей». И самое очевидное решение — организация возможности бегства советских солдат за рубеж. Представим себе, как еженедельно, в числе прочих новостей, политбюро докладывают, что за истекшую неделю бежали еще несколько сот советских военнослужащих из «ограниченного контингента», а прежние несколько сот, добравшись до Запада, провели пресс-конференции. Сколько бы таких сообщений выдержало политбюро, прежде чем начать лихорадочно готовить вывод войск? Непосредственное участие советских частей в боевых операциях было бы сведено на нет, дабы не предоставлять дополнительных возможностей дезертирства. Но даже и такая реакция была бы огромным облегчением для афганцев — с деморализованной правительственной армией они бы и сами справились.
А то, что советские солдаты бегут даже без малейшей надежды выжить, тем более добраться до Запада, мы знали от наших афганских друзей-моджахедов. Да я в том и не сомневался, понимая, как непопулярна должна быть эта война за коммунистические интересы среди русской молодежи (не говоря уж о выходцах из республик). Несколько десятков их уже сидело у афганцев в плену, что было крайне стеснительно для мобильных партизанских групп. К тому же советское командование, узнав, что в каком-либо кишлаке прячут беглых, подвергало этот кишлак безжалостной бомбардировке, чтобы отучить афганцев от такого гостеприимства.
Словом, проблемой надо было заниматься в любом случае. Но самой простой частью задачи оказалось договориться с моджахедами: они-то прекрасно поняли ценность проекта. Понял ее и генерал Зия уль-Хак, президент Пакистана, охотно закрывавший глаза на провоз беглецов через свою территорию. Только западные правительства отказывались понять суть дела, упорно настаивая на «гуманитарном» характере операции, то есть на крайне малом ее масштабе. Всем нам, различным общественным группам, занимавшимся этой проблемой, с невероятными трудностями удалось вывезти в общей сложности человек 15, не более Ни о каких сотнях или тысячах беглецов не могло быть и речи: ни одна западная страна принять их не соглашалась…
Это всего лишь один пример, но он весьма показателен как иллюстрация основной причины наших разногласий: вопреки всем нашим усилиям, даже наиболее консервативные круги Запада не пожелали понять, что десятки и сотни миллионов за «железным занавесом» являются их естественным и самым мощным союзником, а не «гуманитарной проблемой». Действительно победить коммунизм можно было только вместе с ними.
















